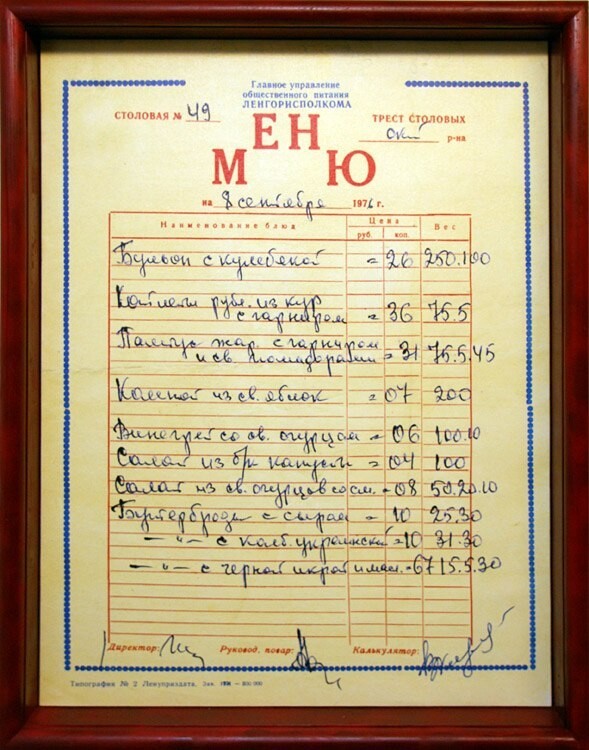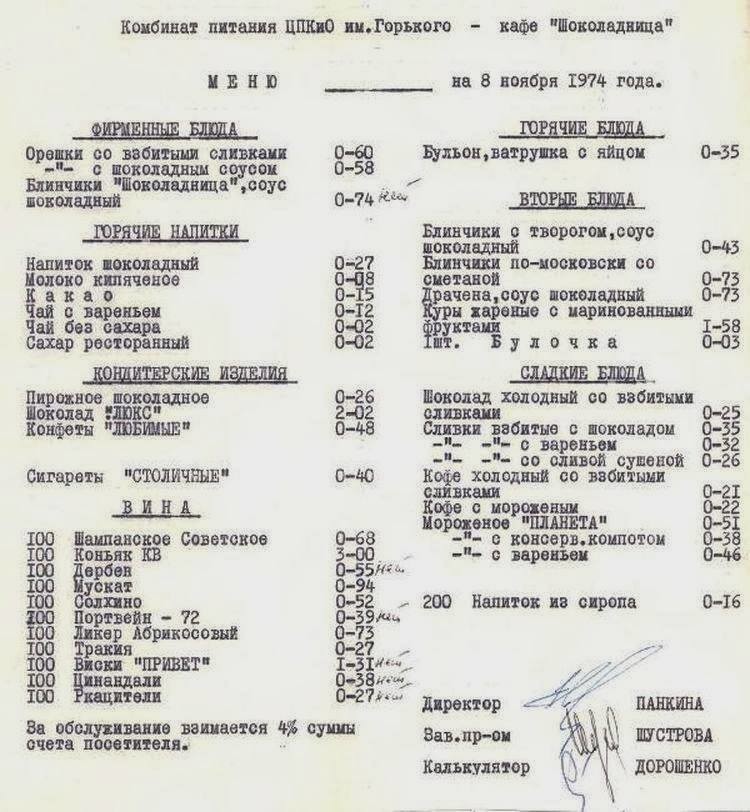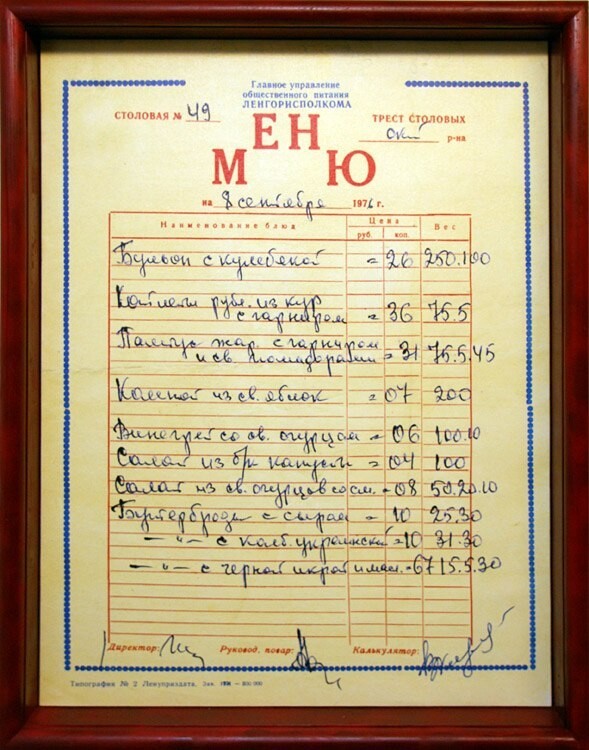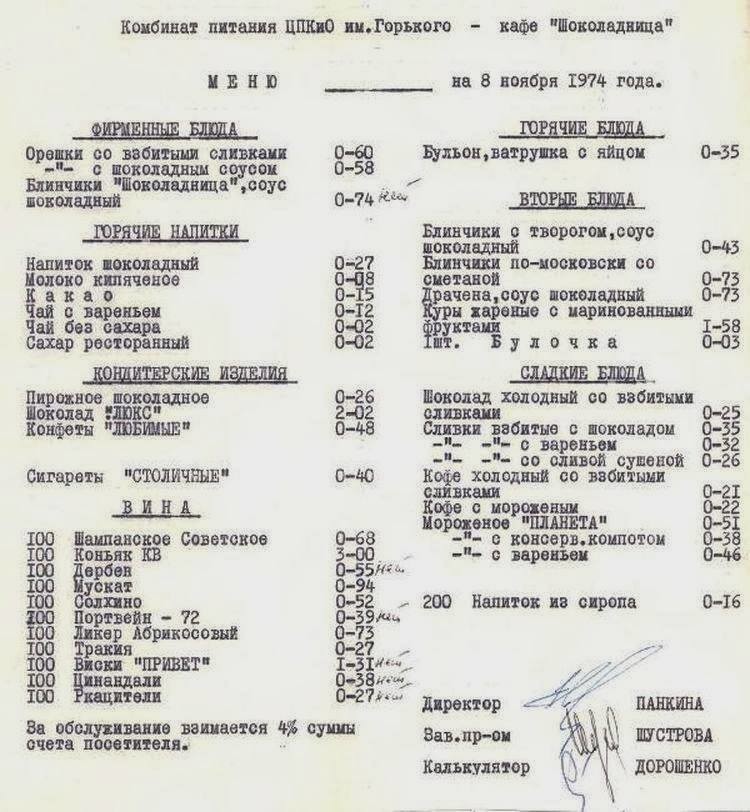Одно из самых памятных детских воспоминаний связано у меня с добрейшей Кумис-апа. Жила у нас в ауле такая старушка. Тихая. Неприметная. Ее любили. Жила она себе потихоньку. Одна жила. Всех ее троих сыновей и мужа убило на войне…
Из всего хозяйства у ней было: коза тощая с поломанным где-то рогом да три курицы с петухом. И собака. Кстати, о собаке. Я ни разу не слышал, чтобы она лаяла. Этим она тоже сильно отличалась от всех остальных аульных собак. Какая-то она была не по-псиному добрая. Ластилась ко всем.
Не зря говорят, что собаки часто на своих хозяев похожи. Кумис-апа ее даже не привязывала, и та ходила за ней повсюду. Лохматая, колченогая, с белым пятном посреди лба. Смешная.
Обычно Кумис-апа возилась у себя в огороде. Или копошилась во дворе. Хлеб она еще умела печь. Знатный хлеб! С луком. Его вкус остался со мной на всю жизнь. Вначале Кумис-апа не спеша раскладывалась. Чтобы все под рукой было. Надевала белый фартук, завязывала на затылке платок. Потом высыпала горкой муку в алюминиевую чашку и разбивала туда яйцо. Потом лила воду из ковшика. Все перемешивала. И так у нее все ловко получалось.
Я смотрел на ее натруженные руки со слегка вздутыми венами, на узловатые ее пальцы. Она принималась раскатывать тесто, и старые серебряные браслеты на ее запястьях едва слышно позвякивали в такт. Потом она нарезала лук, и мне было удивительно, почему у нее не выступают слезы на глазах. У моей мамы всегда выступали.
А лицо Кумис-апа, сплошь в мелких морщинках, оставалось задумчивым и каким-то даже отрешенным. Потом она брала плоский чугунок и смазывала днище маслом. Потом укладывала туда лепешку. Продавливала пальцами, придавая ей форму маленького солнца, и накрывала такой же плоской крышкой.
Потом она разводила огонь во дворе и, когда дрова прогорали, пристраивала тяжелую посудину в самую его середку. Туда, в самый жар. Потом брала маленькими щипцами угольки и обкладывала ими чугунок со всех сторон. И все. Теперь надо было ждать. Вскоре по всему двору потихоньку начинал распространяться тоненький аромат горячего хлеба.
Иногда она пекла сразу семь лепешек. Но уже маленьких. Потом выходила на улицу и раздавала их детям. А мы и рады. Мы тогда не очень понимали, что это поминальные лепешки. Нам какая разница? Лишь бы поесть. А они были такими вкусными…
Иногда я забегал к ней по-соседски выпить пиалушку айрана или взять комочек курта. Он обычно сушился у ней на крыше сарая. Так и жили. А однажды она меня напугала. Вернее, я сам испугался…
Стоял май. По-моему, это было даже девятое мая. День Победы. Возле клуба из репродукторов гремела музыка. В перерывах местный баянист – Калижан-ага – исполнял марши. У него не хватало одного пальца на правой руке, мизинца. Оторвало где-то на войне, но это ему не мешало. Трепыхались на ветру алые кумачи. Народ веселился, гулял.
В толпе выделялись ветераны. Нарядные. С орденами и медалями на лацканах своих пиджаков. Помню, школьники уже выступили: спели песни и прочитали стихи в клубе. Тут же был развернут буфет с лимонадом и беляшами. Отовсюду доносился смех, и вообще во всем чувствовалось особое, праздничное настроение.
Солнце пекло. На улице становилось нестерпимо жарко, и мне захотелось пить. До колонки далеко, а денег на лимонад не было, и тогда я по своему обыкновению решил заскочить к Кумис-апа. За айраном. Едва я открыл дверь, как услышал ее голос. Наверное, гости, подумал я, и на цыпочках пересек коридорчик. Осторожно заглянул в комнату.
А там… Там, посреди гостиной, стоял дастархан. Он был накрыт красивой белой скатертью. По столу были щедро рассыпаны свежие баурсаки и шелпеки. И еще конфеты с пряниками. И еще много-много всяких разных вкусностей. Стояли по краям пиалушки с чаем. От них еле заметно поднимался пар. А сам чай был темно-коричневый, со сливками, наваристый, густой. Старики такой пьют.
Кумис-апа сидела рядом с самоваром. Счастливая! Но я испугался… Потому что она сидела – одна. За столом никого не было. А Кумис-апа сидела и… разговаривала. Причем «разговаривала» со своими сыновьями, называя каждого по имени! Она даже смеялась местами! Да еще так заливисто! Прям закатывалась!
Она рассказывала им про свою козу, которая залезла на прошлой неделе в чужой огород и поела там капусту, дурочка. И соседи из-за этого сильно ругались. И что ей пришлось заглаживать потом свою вину молоком, которое она сдоила с той же самой козы и отнесла крынку к соседям.
– Нате, говорю им! – смеялась Кумис-апа, – берите. Вот вам ваша капуста. Моя коза извиняется. Я в ужасе попятился к двери и осторожно выскользнул наружу. И там уже понесся как очумелый в сторону дома. Залетел к себе домой и с порога заорал: – Мама! Мама! Кумис-апа с ума сошла!
– А что такое? – Она там сидит в комнате и пьет чай!
– Ну и что? – удивилась мама.
– Но там никого нет! – задыхался я. – Она там сидит одна и разговаривает! И еще смеется! Мама в ответ грустно улыбнулась и ничего не сказала. Лишь погладила меня по голове.
– Ничего, сынок, – вздохнула она.
– Пусть сидит. Ты правильно сделал, что не стал ей мешать. Но с тех пор я перестал ходить к Кумис-апа. Я боялся. А однажды она снова вынесла на улицу семь маленьких лепешек. Пацаны побежали к ней наперегонки. Она раздала всем по хлебу и напомнила: – Не забудьте сказать: «Тие берсін»! (ритуальное пожелание – прим.) Потом протянула хлебушек мне и улыбнулась: – А ты чего перестал появляться?
– А это… а вот… – стал я мямлить.
– Я тут вот на днях… Кумис-апа не дала мне договорить, обняла крепко, прижала мою голову к себе, понюхала.
– Не бойся, – сказала она.
– Все хорошо. И так она это по-доброму сказала, так покойно, что я тут же забыл про свой страх. И снова стал бегать к ней за айраном, иримшиком, куртом…
А однажды зимой она связала мне носки. Из козьей шерсти. Теплые. И мне жутко не нравилось, когда пацаны в своем кругу затевали про нее разговоры, рассказывая всякие небылицы.
– Она чокнутая! – говорил Нуркен, наш старшак.
– Явно чокнутая.
– Откуда ты знаешь? – вступался я.
– Да все знают, – хмыкал Нуркен. – Просто помалкивают. И в такие моменты мне хотелось драться, потому что у меня не хватало слов, чтоб защитить Кумис-апа. Но Нуркен был сильнее меня. К тому же он был беззлобный пацан. Нежадный.
А когда Кумис-апа заболела… Родных, как я уже говорил, никого не осталось. За ней ухаживали соседи. По очереди. И в один из дней, когда ей стало совсем плохо, – она уже плохо видела, – Кумис-апа попросила, чтобы позвали Жанибека. Самого младшего… Похоронка на него пришла последней. В сорок четвертом.
Взрослые в панике всполошились. Заметались туда-сюда. Что делать? Как быть? И тогда Ашим, аульный зоотехник, пришел, полез к ней тихонько в сундук и вытащил оттуда фуфайку. Старую такую затасканную телогрейку. В ней когда-то Жанибек ходил в школу. Потом натянул ее кое-как, благо сам был маленький, щупленький, и подсел к Кумис-апа.
Прокашлялся осторожно в кулак. Кумис-апа тут же встрепенулась, чуть приподнялась и слепой рукой стала шарить в воздухе. Потянулась к силуэту, коснулась рукава и вдруг вцепилась в него мертвой хваткой, сжала до белизны в пальцах: – Жәнібек, — позвала она чуть слышно.
– Жәнібек, балам-ау, кайда жұрсің?.. (Куда ж ты пропал, сынок?) И до-олго потом она с ним разговаривала. «С Жанибеком». О чем-то с ним все шутила и смеялась. Как в тот раз, с самоваром. И пока Кумис-апа так «разговаривала», Ашим сидел смирно и не двигался. Боялся шевельнуться.
А из глаз его выступила предательски и потекла по жестким усам одна-единственная слеза и упала на пол. Потом Кумис-апа устала и ослабила руку.
– Жарайды, – сказала она довольная. – Мен болдым. Сен бара бер. (Ну все, мне пора. А ты иди.)
И Ашим поднялся. Тихо вышел во двор…. Кумис-апа хоронили всем аулом. Старики на похоронах еще говорили, что Кумис повезло. Что она хорошо умерла. С улыбкой…
© Ермек Турсунов