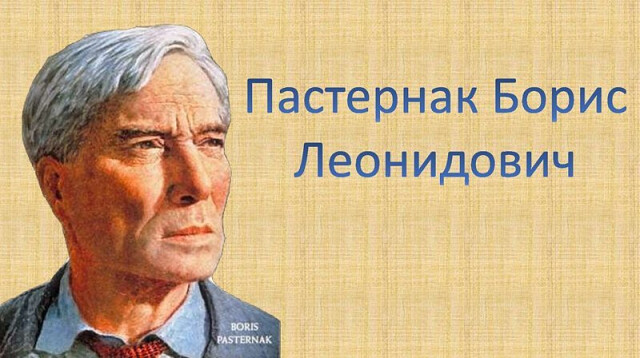Таисия Павловна спешила по широкой сельской улице, прижимая к груди пакет со свежими булочками.
— Теперь, на неделю хватить, — думала она, — удачно я к Гавриловне зашла. Успели к автолавке.
Бабушка искренне радовалась, что удалось купить еще теплую сдобу. Конечно, она покупная, не домашняя, но заводить тесто ради нескольких булок не хотелось. А больше-то ей не осилить.
— Вот если бы сынок был жив.
Старушка уже закрывала калитку дома, когда услышала за спиной негромкий голос.
— Здравствуй, мать.
Вздрогнув от неожиданности, Таисия Павловна медленно оглянулась. Ее буровил глазами невысокий, небритый мужик лет сорока пяти.
Таисия Павловна нахмурилась, лицо мужика ей было совершенно незнакомо.
— Мать, ты глухая, что-ли? Починить чего не надо? Любой мелкий ремонт делаю.
Она будто очнулась. Конечно, у одинокой старухи всегда найдется, что подлатать во дворе. Живет то одна.
Но, уж больно лицо у мужика было подозрительное.
— Пусти такого к себе — беды не миновать.
Она уже было отвернулась, собираясь нырнуть в спасительную тишину дома. Но остановилась запнувшись. Мужик то не милостыню просил, а работу сделать предлагал. Честным трудом на хлеб зарабатывает.
Обреченно махнув рукой, побрела назад.
— Заходи, милок. Видишь, вон заборчик покосился совсем. Коль не дорого попросишь, то поправить бы.
Мужик оценивающе оглядел почти упавший плетень и кивнул.
— Много не попрошу, — кинул на лавку холщовую сумку, пошел осматривать поддерживавший забор колышек, — мне бы гвоздей, мать. Найдутся?
Таисия Павловна кивнула и посеменила к стоявшей в дальнем конце двора покосившейся сараюхе.
Толкнула незапертую дверь и махнула куда-то в темное нутро.
— Там погляди. И гвозди должны быть и инструменты всякие. От сыночка остались. Тебя как величать?
Мужик, прищурившись, вошел внутрь.
— Михаил. Ладно, разберусь.
Старушка закивала и поспешила обратно к дому. Чего под ногами путаться?
Оставшись один, Михаил осмотрелся. Увидел, сложенные у стены деревянные ящики, двинулся к ним. Лежащей рядом ветошью смел многолетнюю паутину и поднял крышку.
От увиденного внутри, он даже присвистнул. В разделенном на отсеки ящике, лежали инструменты. Рубанок, ножовка, молоток. Да все добротное такое. Советское еще, не то, что китайский, ничего не стоящий новодел.
— Сколько же сейчас все это стоит? – закралась в голову шальная мысль
Судя по тому, как аккуратно разложены инструменты, для хозяина они были, очень, дороги.
Взяв, все что нужно, мужчина вышел во двор и занялся забором.
Таисия Павловна хлопотала на кухне, поглядывая в окно на работавшего Михаила.
— Хорошо, что мужичок подвернулся, а то Ваську соседа не допросишься! – думала она.
Налила молока холодного, окно отворила:
— Миша, молочка с булочкой не хочешь?
Тот отрицательно мотнул головой, занятой работой:
— Не сейчас. Что же, Вы так двор запустили? Дети, небось, в город укатили?
Бабушка печально скривилась.
— Так нет деток то. Одинокая я.
Михаил удовлетворенно хмыкнул. Это то, что он хотел услышать. В голове мужика созрел план.
Вернувшись в сарай за очередной горстью гвоздей, он перевязал ящик с инструментами, найденной рядом веревкой. Воровато оглядываясь, выскользнул из сарая и спрятал его в лопухах у забора.
Решил, что заберет ящик, как стемнеет. Домик старухи на отшибе, никто не помешает. В заборе две штакетины болтаются, аккурат возле этих лопухов. Раздвинет и дело в шляпе.
— Зачем бабке инструмент. Да и помрет скоро, пойдет все добро прахом, — думал он.
Он быстро закончил работу и назвал старушке небольшую сумму. Бабушка вынесла деньги. Тщательно пересчитала и передала Михаилу. Тот скривился и небрежно сунул деньги в карман.
Продаст инструменты, в десять раз больше выручит. Собрался было идти, как Таисия Павловна тронула его за рукав.
— Михаил. Ты там, в сарае инструменты видел?
Мужик окаменел.
— Неужели бабка видела, как он ящик в лопухах прятал?
Отвел глаза, потупился. Стал думать лихорадочно, как оправдаться. А пожилая женщина продолжила:
— Это от сыночка моего осталось. Уже почитай лет тридцать пылится. Возьми себе. Я смотрю, парень ты мастеровой, пригодится, — потянула его за собой к сараю, — забери.
Мужчина дернулся, как от удара. Головой затряс в испуге, что воровство откроется.
— Нет, нет. Что, Вы. Инструмент там хороший. Продадите, лишняя копейка будет.
Старушка недоуменно склонила голову.
— Ну, если забрать не хочешь. Пойдем, я тебя хоть чаем напою. А то почитай весь день голодный.
Михаил торопливо кивнул и слегка подтолкнул Таисию Павловну от злополучного сарая. Ему хотелось поскорее покинуть место преступления.
Усадив гостя в маленькой чистой кухоньке. Говорливая старушка, не переставая рассказывать о сыне, выставила перед Михаилом красивую чашку в красный горох. Налила душистого чаю, пододвинула утренние булочки.
— Бери, свежие. Ой, и вареньица, сейчас положу. У меня свое из антоновки, — пошоркала к буфету.
Вытащила красивую резную вазочку и поспешила назад. Поставила перед гостем угощение и открыла старый фотоальбом.
— Вот мой сыночек. Может, знал его? Вроде, ровесники. – она показывала молодого офицера на черно-белом фото.
Михаил взял в руки затертое местами фото. Вгляделся внимательно и похолодел. Конечно, он узнал этого человека с фотокарточки!
Будто юность на него с карточки глянула. Ротный его, Серега Фадеев!!!
Тогда в Афгане, он был командиром в их саперной роте. Младший лейтенант, уже понюхавший пороха, принял под свое командование их — новобранцев, сопляков не обстрелянных. Только закинутых в чужую страну из Союза.
Узнав, что он, Михаил Акиньшин призван из соседней деревни, к себе вызвал. Расспрашивал долго про семью, про мамку, тогда еще живую, про сеструху. Интересовался, как давно Миша был в его родной Ивантеевке.
Разговорились. Серега сокрушался, что дома давно не был. Сначала училище военное, потом Афган — война. За мать свою очень беспокоился, видел ее последний раз перед отправкой. В короткий отпуск приезжал.
Друзьями, конечно, после того разговора, они не стали. Но, Серега будто взял над земляком шефство. Словно, во что бы то ни стало, хотел живым сына матери вернуть. Он ведь столько смертей уже перевидал.
Тем более, что по гарнизонам прокатилась весть, что скоро войне конец. Будут выводить войска.
В тот день, поступил приказ разминировать дорогу для колонны военной техники в узком ущелье. Начался вывод советских войск.
Их роту выкинули с вертушки на вершине перевала, ведущему к мосту через Амударью к узбекскому Термезу.
Растянувшись цепочкой, они долго спускались вниз к разбитой снарядами серой ленте дороги. Над головой висело низкое зимнее небо. На головы сыпал мелкий холодный дождь.
Возвышавшиеся с двух сторон скалистые пики, будто душили с двух сторон шедший отряд. Скрюченными от холода руками, солдаты сжимали металлоискатели и щупы. Провожатые, на коротких поводках вели замерших поисковых собак.
Они уже полчаса прочесывали местность, когда воздух вдруг разорвали первые выстрелы минометного обстрела. Раз за разом, моджахеды упорно пытались выдавить бойцов из ущелья.
Командир увел роту за скалистые уступы и по рации просил ответного огня, называя их координаты. На горизонте уже появились вертолеты поддержки, когда очередной шквал огня будто выкосил роту.
Обезумевший от страха Михаил, сидел обхватив голову руками над телом минуту назад еще живого, приятеля Лехи. Он будто оглох и ослеп, монотонно раскачиваясь из стороны в сторону.
Тогда-то, к нему и подлетел ротный. Миша даже ничего не успел понять, как уже лежал прижатый к земле. Совсем рядом раздался взрыв, и полыхнуло ослепительным огнем.
Потом наступила темнота.
Очнулся Михаил уже в госпитале. После контузии, он долго оставался абсолютно глухим. Его комиссовали и отправили на родину. Судьбой командира мужчина не интересовался.
От безысходности, в деревне он запил по-черному. Потом слух вернулся.
Наступили лихие девяностые. Работы не было. Михаил подался шабашить с бригадой таких же, как сам неприкаянных мужиков.
В начале нулевых, он пытался организовать свой бизнес, но прогорел.
Потом загремел в тюрьму. И отсидел от звонка до звонка, долгих пятнадцать лет за разбойное нападение с подельниками на коммерсанта.
Вышел недавно, опять шабашить начал. Матери нет. Сеструха с мужем в город подалась. Жить на что-то нужно.
И вот теперь Михаил сидел в этом доме и напряженно думал.
— Мать, когда сын то твой помер? – опасливо поинтересовался он.
Старушка на минуту замерла. Печально скривилась и утерла ладонью пробежавшие по щекам мокрые дорожки:
— Так в январе 1989 в Афганистане.
Поплелась к буфету, достала бархатную красную коробочку. Положила перед ним.
— Вот и награда есть. Солдатика собой закрыл.
У Михаила отнялись ноги. Он сидел, не в силах оторвать глаз от налитой ему чашки.
— Значит, в тот злополучный день Серега погиб закрыв его собой, – пронеслось в голове. – А, он!
Промямлив, что-то нечленораздельное мужчина сполз со скамьи. Быстро попрощался и торопливо поспешил к двери.
Он брел по сельской улице к автобусной остановке и напряженно думал. Потом вдруг развернулся и почти бегом поспешил назад.
Уже смеркалось, когда Михаил завернул за угол дома Таисии Павловны.
Тревожно прислушавшись, он стал красться вдоль забора. Развел руками две не прибитые штакетины и нырнул во двор. Через три минуты, спрятанный в лопухах ящик с инструментами, благополучно перекочевал на прежнее место в сарай.
А Михаил, гордо выпрямившись, уходил в сторону пригородного автобуса.
На следующее утро, Таисию Павловну разбудил стук в окно. Испуганная старушка, перекрестившись, закуталась в шаль и поспешно открыла створку.
Во дворе стоял улыбающийся Михаил.
— Вот, мать, специально приехал. Я вчера видел, крыльцо у тебя прогнило. Провалится, не ровен час, убьешься, ведь.
Смущенная бабушка замахала на него руками.
— Да знаю, я сынок. Обхожу гнилые ступеньки. Не потяну сейчас с оплатой. До пенсии еще неделя. Платить тебе нечем!
Но Михаил только отмахнулся.
— Чаем напоишь. Уж больно чаек у тебя ароматный.
Пока Таисия Павловна протестовала и охала, мужик развил кипучую деятельность.
Загнав в дом паникующую старушку, он натащил из сараюхи досок. Полностью разобрал крыльцо, а через три часа собрал новое, пахнущее свежей стружкой.
Потом они вместе обедали, сваренным Таисией Павловной борщом. Михаил, как и обещал денег не взял. Попросил только, стопочку беленькой и, про себя, помянул Серегу.
Перед уходом, осмелев, спросил у старушки про инструменты сына. Радостная бабушка часто закивала:
— Возьми, милок. Заработал честно!
Михаил горестно усмехнулся и, сгибаясь под тяжестью ящика, поспешил на автобус.
С этого дня мужик взялся за ум.
Оборудовал дома столярную мастерскую. Да так хорошо у него дела пошли, что через год, уже цех собственный имел. Финансово поднялся, но по соседним селам дважды в месяц похаживал.
Нет, не шабашил. Старикам одиноким помогал. Деньги никогда за помощь не брал. Будто свой грех отмаливал.
К Таисии Павловне Михаил приезжал каждый раз, как минута свободная позволяла. Почитай, уже все в ее доме переделал. Доволен был — долг отдавал.
Но, больше всего его радовали чаепития со старушкой. Она щебетала счастливая, гостя потчевала. Каждый приезд старалась порадовать Михаила чем-то вкусненьким.
Сердце бабушки не нарадовалось. Словно, сынка на войне убитого, вновь обрела.
А он сидел за столом, слушая ее щебетание и душой оттаивал. И жизнь его изломанная не такой трагичной казалась. И горизонты новые себе намечал. И понимал, что это такое счастье, иметь родного человека. Пусть, родного не по крови, но по душе!
Автор: Виктория Р