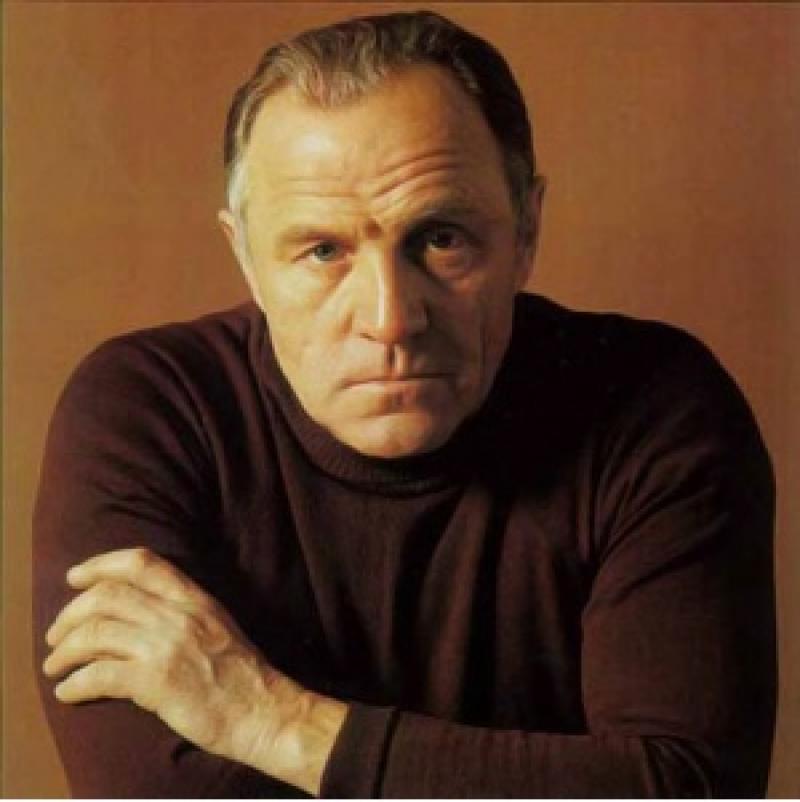Когда Ире было два года, она жила в доме ребенка. Я приехала снимать детей, мне дали самых тяжелых к устройству. Я зашла в ее группу и увидела девочку с мрачным, перекошенным, каким-то старческим лицом. «Какой некрасивый ребенок», — подумала я.
А потом я стала ее фотографировать. И УВИДЕЛА ее. Сквозь эту неподвижную унылую маску. Она ожила. Сложно поймать взгляд депривированного ребенка.
Этот странный ребенок смотрел прямо в объектив. Не отрываясь. И, вдруг, я увидела ее душу. Одинокую, вселенски одинокую. Страдающую. И даже не надежду. А просто первое в ее жизни мгновение, когда ее кто-то замечает. Замечает душу — отверженную, все понимающую. Такую же, как у меня. А потом она отвела глаза. И они наполнились слезами.

Я попросила воспитателя: «Расскажите мне про Иру, мне надо написать текст». «А что рассказать?» — отозвалась воспитатель. «Ну, что она умеет, что говорит?»
— «А она ничего не умеет. И ничего не говорит. Только сидит в шпагате и качается до пола. И когда качается, ноет. Про нее нечего рассказывать. Она — никакая».
За два месяца до этой встречи у нас умерла младшая дочь. Наша чудесная жизнь врезалась на всем ходу в каменную стену и перестала существовать. А мы — нет. Мы продолжали жить в какой-то другой жизни. В жизни ПОСЛЕ.
Ходили, говорили, ели, изо всех сил старались скрыть от детей свое отчаяние, чтобы не испугать их. Чтобы дать надежду, которой сами почти не имели.
Я думала: «Неужели меня когда-нибудь что-нибудь обрадует?» Я ехала на съемки и плакала в машине. Потом выходила, вытирала лицо снегом, и шла, прикидываясь нормальным, обычным человеком. Я говорила обычным голосом и улыбалась. И это было понарошку.

Я не хотела никаких детей взамен. Я просто хотела как-то выжить. И тут эта Ира с ее одиночеством и ее отчаянием. Точно я не видела тысячу детских одиночеств за время этого проекта, дети-ждут.рф .
Точно это было мое, специально подобравшее ключ к моему сердцу, одиночество… Дома я сказала своему золотому мужу: «Я не знаю, как заговорить с тобой об этом, и что это… я снимала тут одну девочку, я все понимаю, правда, но я просто не могу о ней не думать…посмотри, может, нам все-таки, стоит подумать о ней?»
И Андрей ответил: «Ты отдаешь себе отчет, что ты просто не в себе? Какие девочки? Мы еле дышим». «Да, да, я не в себе. Но я теперь в себе, наверное, уже больше и не буду. Надо учиться жить, как есть».

«Да, да, я не в себе. Но я теперь в себе, наверное, уже больше и не буду. Надо учиться жить, как есть». Мы приехали в дом ребенка. Смотреть Иру.
Ее привела воспитательница. Она была крохотная, с тем же перекошенным личиком, она еле ковыляла кривым крабом. А под носом у нее была зеленая заклейка из соплей.
Боже, какая она страшненькая, подумала я. Это просто какой-то зародыш человека. Неудачный какой-то зародыш. Господи, что же я в ней увидела??
Ира потрогала игрушку, которую мы принесли, упала на попу, расставила ноги и начала качаться, быстро и энергично, доставая до пола лбом.

А главный врач на фоне ириных качаний произносила, тем временем, такую речь: «Лада Борисовна, это ребенок даже не с легким УО! Это глубокая умственная отсталость! Там нет никаких перспектив. Мы будем передавать ее в СОБЕС.
Понимаете? Это глубоко умственно отсталый, необучаемый ребенок. Я очень уважаю Вас, очень уважаю Вашего мужа, но это СОБЕС! У меня от нее СЕМЬ отказов. Она НИЧЕГО не умеет и не делает, что ей положено по возрасту. Только сидит на шпагате и качается. Мы ее Волочковой зовем..»
И тут мой муж, на которого я все это время боялась взглянуть, сказал: «Знаете, а нам девочка нравится. Мы ее возьмем».
Я спрашивала его потом: «Почему ты это сказал?? Ты же не хотел?» И Андрей ответил: «Я понял, что ее надо спасать. И что никто не поможет, кроме нас».
Мы удочерили Иру, оставив дом ребенка в неприятном недоумении. Ира была в глубочайшей депрессии. Она не верила миру. Мир был опасный и предательский. Мир ее не замечал и не любил все эти два года. И все эти два года она никак не могла на него влиять.
Она не умела просить. Она не умела играть. Она все рвала и ломала. Она пугалась всего, обламывалась и качалась. И заходилась в истерике до остановки дыхания. Она ела только пюре. Она еле ходила, боялась воды, горшка, папы, лифта, ветра, машины…
Внутри меня выло мое горе. Снаружи выла Ира. Я знаю, почему категорически не рекомендуют брать ребенка на потере. У тебя просто нет сил. Все силы уходят на то, чтобы не развалиться на невосстановимые куски самому.
А на ребенка надо много сил. Очень. Их надо где-то взять. Я брала силы из нашей беды. Я говорила себе: «Как мало твое несчастье по сравнению с горем этого несчастного ребенка. Ты потеряла дочь. У тебя остались сын и дочь, и муж, и мама, и друзья, и любимая работа, и дом.
У Иры никогда ничего не было. Совсем. Ей гораздо тяжелее». Знаете, кем оказалось это тщедущное, мрачное, обломленное, бесконечно ноющее, депрессивное существо, которое мы взяли в семью, находясь в состоянии измененного сознания?